Не отработка, а наставничество: почему не стоит делать поспешных выводов о новой реформе здравоохранения

С 1 марта 2026 года выпускники медицинских вузов и колледжей, обучавшиеся на бюджетных местах, должны будут проходить обязательное наставничество в медучреждениях, работающих по системе ОМС. Реформа, подписанная 17 ноября Владимиром Путиным, становится одной из самых масштабных попыток за последние годы закрыть хронический дефицит кадров в здравоохранении. В СМИ и соцсетях уже разгорелась дискуссия: студенты выражают тревогу из-за длительности подготовки и возможного снижения дохода, а эксперты предупреждают о рисках и одновременно видят потенциал в повышении качества медицинской практики.
Чего боятся студенты? Долгие годы без зарплаты и личной жизни
Многие студенты видят новые правила как дополнительное бремя. Часть студентов заявляет, что не готова к новым правилам и всерьёз рассматривает возможность отчисления. В одном из популярных роликов студентка медицинского вуза говорит:
«Все люди, что впахивали на бюджете, в большинстве своем не из принципа, а потому, что вариант платки был невозможен, останутся в нищете ещё на долгие годы». Она рассказывает, что планировала создать семью после окончания учебы, но теперь видит перед собой «ещё 5 лет безденежья»: «Учитывая инфляцию, учитывая то, что и так невозможно сейчас купить ни квартиру, ни дом… Соответственно, это ещё 5 лет отсутствия детей — мне будет 30». Девушка подчеркивает, что «90% медицинских вузов — это девушки», многие из которых хотят семью, но не могут себе этого позволить до конца обучения.
Похожую позицию высказывает другая студентка, обращая внимание на общий срок подготовки:
«Мы говорим о том, что база — это будет 14 лет, это больше, чем школа. Люди вообще осознают масштаб?». Она задается вопросом, какой статус и какие зарплаты будут у врача, работающего под наставничеством: «Если мы говорим, что врач работает под наставничеством, значит, по идее, у него должна быть меньше зарплата, чем у того же наставника… Я вам могу сказать, у врачей невысокая зарплата, как вы знаете. То есть это будет ниже. Как люди должны существовать?». По ее словам, реформа кажется несправедливой: «Почему именно медицинские вузы? У нас что, другие специальности не учатся на бюджете? Учителей, юристов, экономистов хватает? Почему все учатся на бюджете спокойно и могут уйти из специальности, если им не понравилось?».
Реакция экспертов тоже оказалась неоднозначной: одни увидели в обязательной отработке попытку закрыть кадровый голод, другие — риск усилить кризис. Публицист Дмитрий Севрюков отметил ранее, что «медиков, как и учителей, стране остро не хватает», и считает вмешательство государства логичным, но подчеркнул, что «одной лишь обязательной отработки недостаточно», ведь важен и вопрос качества подготовки. Политолог Илья Гращенков оценил реформу куда жестче, называя её «закрепощением медиков»: по его словам, механизм не решает корневые проблемы низких зарплат и перегруженности, создает коррупционные риски и демотивирует абитуриентов, превращая первые годы работы в «повинность, которую нужно отбыть».
Заблуждения и новые факты
Оказалось, что выводы делать рано, как выяснил “Коммерсантъ”: детальное изучение подзаконных актов Минздрава показывает, что обязательные три года работы с наставником ждут лишь узкий круг специальностей — в основном тех, где критически важны мануальные навыки и высокий уровень клинической ответственности, вроде хирургии, онкологии, неонатологии и терапии. Для большинства остальных направлений сроки заметно короче, а для тех, кто выберет работу в сельской местности, небольших городах или новых регионах, они и вовсе уменьшаются ровно вдвое, но не могут быть меньше одного года.
Кроме того, Минздрав полностью вывел из-под обязательного наставничества ряд редких специальностей, включая санитарно-гигиенические направления, авиационную и водолазную медицину, а также фармацевтов. Наставниками станут врачи со стажем от пяти лет, причем дистанционный формат допускается, однако критики сомневаются и в реальной добровольности участия наставников, и в наличии «дополнительных значимых выплат» за эту работу.
Эксперты, опрошенные “Ъ”, расходятся в оценках: официальные представители медорганизаций называют закон «контуром безопасности» и считают, что он задает молодым врачам прозрачную профессиональную траекторию, тогда как независимые специалисты предупреждают, что ограниченный перечень одобренных мест прохождения наставничества может сузить выбор работы, а сокращение сроков в регионах фактически ставит кадровые потребности выше качества подготовки.

Реальные перспективы для студентов
Начальник учебно-методического управления и заведующая кафедрой реабилитологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Галина Суслова в разговоре с «Общей газетой Ленинградской области» подчеркнула, что суть нового закона в основном трактуют неверно. По её словам, речь идёт совсем не об «обязательной отработке», как это преподносят, а о системе профессионального сопровождения молодых специалистов.
«И это надо воспринимать именно таким образом. Можно, конечно, всё перевернуть с ног на голову, как это иногда бывает. Но, в принципе, это закон о наставничестве, когда ординаторам или выпускникам предлагается работа под руководством опытных специалистов», — заметила она.
Важно понимать и разницу с советским распределением: сейчас выпускник сам выбирает место работы и заключает целевой договор. «Ему будут помогать в работе. А во-вторых, он сам выбирает это место работы — государственные учреждения или организации, работающие по ОМС».
Эксперт отдельно подчеркнула, что государство финансирует обучение будущих врачей, и логичным продолжением этой поддержки становится работа в системе здравоохранения. При этом Галина Анатольевна напоминает, что медицинское образование в принципе не заканчивается получением диплома.
«Это образование, которое требует дальнейшего усовершенствования, повышения квалификации. И вот это наставничество — огромное благо. Это большая подмога для выпускников. Они просто, может быть, не сразу это понимают», — пояснила она.
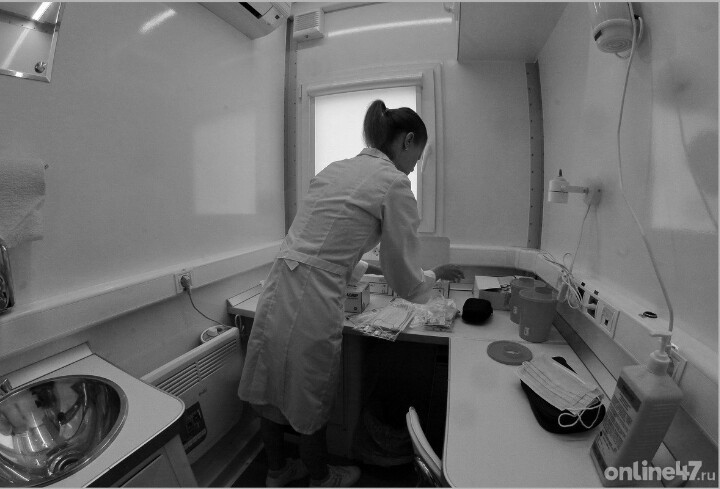
При этом среди часть студентов все равно восприняли новость настороженно, а некоторые даже негативно. По словам специалиста, это связано прежде всего с неправильным восприятием сути нововведения. Многие воспринимают предстоящее наставничество как очередной этап обучения, тогда как в реальности речь идет уже о самостоятельной работе.
«Это уже будет самостоятельная работа, не обучение, как в университете или медучилище. Но при наличии старшего товарища, который поможет, подскажет, подкорректирует. Это будет врач, получивший диплом и прошедший аккредитацию, имеющий право на самостоятельную работу, но под присмотром старших специалистов», — сказала она.
Галина Суслова также напомнила, что длительное медицинское образование — нормальная мировая практика. По ее словам, в разных странах подготовка врача может занимать девять, двенадцать и даже пятнадцать лет, и российская система исторически тоже не ограничивалась шестью годами: раньше к основному обучению добавлялись интернатура и ординатура, которые в сумме давали тот же девятилетний путь.
Отвечая на вопрос о реакции студентов, она подчеркнула, что в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом университете острой напряженности не возникает: значительная часть обучается по целевому набору и заранее понимает, что после выпуска отправится работать под наставничеством в закрепленную медорганизацию. По ее словам, вопросы, конечно, обсуждаются, но повода для острых конфликтов нет.
Оценивая перспективы реформы в части восполнения кадрового дефицита, Галина Суслова выразила осторожный оптимизм. Многие выпускники действительно уходят в коммерческие клиники, из-за чего в государственных учреждениях — особенно в региональных — сохраняется множество вакансий. Однако она считает, что сочетание целевых направлений и обязательной работы под наставничеством в перспективе способно закрыть проблему: пусть не в первый год, но в течение двух-трёх лет ситуация, по ее мнению, должна выровняться.

Несмотря на подробное разъяснение Минздрава и специалистов, ситуация остается неоднозначной. Наставничество — это не простая формальная отработка, а сложная система профессионального сопровождения, реализация которой во многом зависит от регионов, конкретных медучреждений и готовности самих выпускников. Мнения экспертов по-прежнему расходятся: кто-то видит в реформе шанс закрыть кадровый дефицит, кто-то предупреждает о рисках демотивации и формализации. На практике пока неизвестно, насколько эффективно новая схема будет работать и сможет ли она одновременно обеспечить качество подготовки и удержать молодых специалистов в системе здравоохранения.

